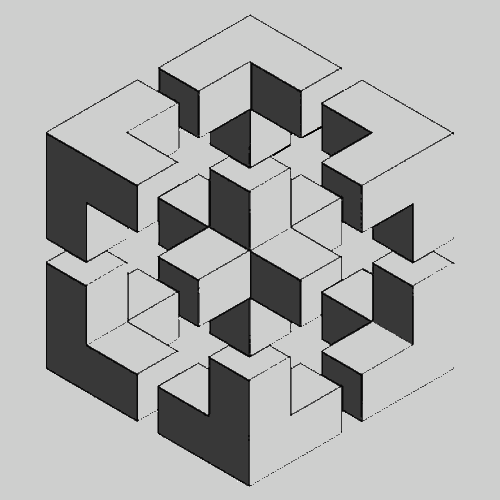Философской категорией термин «ци1» стал в 4 в. до н.э. в таких классических памятниках, как Гуань-цзы, Мэн-цзы, Чжуан-цзы и другие. Хронологически первым, видимо, можно считать упоминание ци1 в Го юй (5 в. до н.э.), где оно отнесено к 8 в. до н.э.: Бо Янфу, сановник царства Чжоу, объяснял землетрясение нарушением порядка взаимодействия ци1 Неба и Земли. Единым субстанциальным началом, «пронизывающим тьму вещей», ци1 предстает в Дао дэ цзине (4 в. до н.э.). Положение о преобразовании ци1 в конкретные объекты вследствие сгущения и разрежения, ставшее общепринятым в китайской классической философии, впервые прозвучало в Чжуан-цзы, где указанные процессы применительно к ци1 осмыслялись как синонимы жизни и смерти. Там же обозначена связь сгущения и разрежения, подъема и опускания «пневменных» субстанций с психоэмоциональной сферой. В Цзо чжуани (4 в. до н.э.) человеческие эмоции и «вкусы» (горечь, сладость и т.п.) объявляются порождением, а «воля» – воплощением ци1. Духовная сущность «пневмы»-ци1 обозначена в Гуань-цзы термином «лин ци» – «одухотворенная пневма, духовное начало, ум, божественная сила». Она присутствует в «сердце» – сознании и в целом психике человека (ср. наименование «сердца» в Чжуан-цзы: «вместилище духовности», или «души», – лин фу), способна спонтанно «приходить и уходить», ей присуща диалектическая атрибутика дао – такая «малость», что в ней «нет ничего внутреннего», и одновременно такая «великость», что для нее «нет ничто внешнего» (Гуань-цзы, гл. 49 Нэй е – «Внутренняя деятельность»).
В Си цы чжуани (4 в. до н.э.) ци1 соединено с понятием «цзин3» («семя», «семенная душа»), выражающим в Дао дэ цзине порождающую потенцию дао, а в Гуань-цзы порождающе-животворящее (шэн) начало всех вещей: «осемененная (утонченная) пневма (цзин ци) образует вещи» благодаря тому, что «мужское и женское [начала] связывают семя». Содержащиеся в Си цы чжуани высказывания о цзин3 как обозначении разумного начала корреспондируют с пассажами из Гуань-цзы, где цзин ци фактически отождествляется с «духом» (шэнь1) как психическим началом. В Мэн-цзы представлено положение о единении телесного и духовного («мысле-волевого» – и3) ци1 в «сосредоточенности на должной справедливости (и1)», что рассматривалось как выражение безбрежности мировой «пневмы».
В Хэ Гуань-цзы (4 в. до н.э.?) или у Дун Чжуншу (2 в. до н.э.) введено понятие «изначальная пневма» (юань ци), из которой «образуются Небо и Земля». Дун Чжуншу отождествил «изначальную пневму» с качествами, полученными человеком от родителей и с общемировой субстанцией. В Хуайнань-цзы (2 в. до н.э.) ци1 рассматривается в космологическом и антропологическом плане как одно из порождающих начал наряду с «духом» и «семенем» и одновременно объединяющее их – «то, что наполняет все сущее».
Ван Чун (1 в.) интерпретировал воплощенное в ци1 духовное начало – шэнь ци как «утончение» цзин ци, а сгущение и разрежение «пневмы» сравнил с образованием льда и его таянием: человек порождается «духовной пневмой» (сгущение) и возвращается в нее со смертью (разрежение). Понятие «шэнь ци» у Ван Чуна может быть истолковано как синоним «изначальной пневмы», в которой «отсутствует разделение [на мутное и чистое]». Ван Су (3 в.) отождествил «изначальную пневму» с «Великим единым» (тай и) – состоянием, предшествующим формированию мира в космогонической схеме Ле-цзы (4 в. до н.э.), а даос Чэн Сюаньин (7 в.) – с «Великим началом» (тай чу) космогенеза. Чжан Цзай (11 в.) связал ци1 с понятиями «у цзи» («Беспредельное» или «Предел отсутствия/небытия», см. ТАЙ ЦЗИ) и «Великая пустота» (тай сюй), акцентировав неуничтожимость «пневмы», сгущение и разрежение которой реализуется в мировых трансформациях (бянь хуа), образующих преходящие «формы» (син2) и «образы» (сян1).
Особое значение термин «ци1» приобрел в неоконфуцианстве, главной проблемой которого стало выяснение соотношения двух начал: материалообразующего, динамичного, континуального, чувственного и морально индифферентного ци1 со структурообразующим, дискретным, статичным, рациональным и морально окрашенным «принципом» (ли1). Чэн И (11 в.) в отличие от Чжан Цзая постулировал возможность уничтожения ци1 с разрушением «принципов». Чжу Си (12 в.) отстаивал вечность существования «принципов», с которыми неразрывно связано ци1.
Ван Янмин (15–16 вв.) трактовал ли1 и ци1 как нерасчленимое единство, а ци1, «дух» и «семя» как «одну вещь»: «распространяющаяся активность – это пневма, сгущенное скопление – это семя, а чудесное (утонченное) применение – это дух». Выражение этого единства Ван Янмин находил в «благосмыслии» (лян чжи) – врожденной способности к благу и интуитивном знании его. Ван Чуаньшань (17 в.) усматривал в концентрации и рассеивании ци1 причины «видимости» или «невидимости» чего-либо, позволяющие говорить о «наличии/бытии», «форме», либо об «отсутствии/небытии», «неоформленности» (см. Ю – У). Янь Фу (19 в.) объяснял западный термин «эфир» (итай) как «имя самого чистого ци1». Фэн Юлань (20 в.) отождествил ци1 с платоновско-аристотелевой материей, предполагающей полное отсутствие форм, то есть коррелятивных ци1 «принципов» (ли1), или «Беспредельным» (у цзи) «ничто», равнозначным «Пределу отсутствия/небытия». Некоторые современные исследователи сближают «ци1» с понятием «поле» (Фэн Ци и другие).
Традиционные концепции ци1 в настоящее время продолжают играть большую роль в теории китайской медицины.
Древнекитайская философия, тт. 1–2. М., 1972–1973
Лисевич И.С. Литературная мысль Китая на рубеже древности и средних веков. М., 1979
Кобзев А.И. Учение Ван Янмина и классическая китайская философия. М., 1983
Древнекитайская философия. Эпоха Хань. М., 1990
Китайская философия. Энциклопедический словарь. М., 1994
Фэн Юлань. Краткая история китайской философии. СПб, 1998