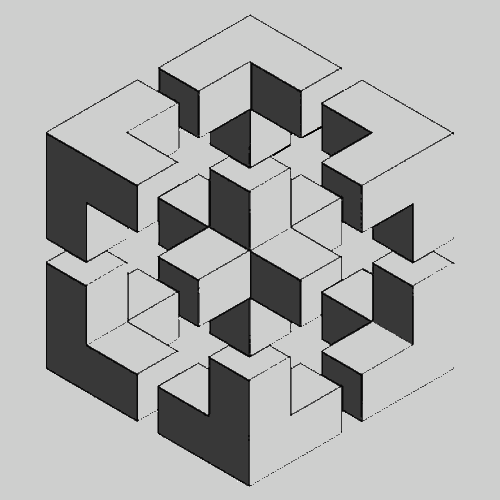Отсюда можно предположить три варианта этимологического смысла производного иероглифа цзи3: 1) запись слов, связанная с какими-то важными циклическими явлениями (в паре с 5-м знаком своего цикла цзи1 символизирует центр, что прежде всего отмечено в Шо вэнь цзе цзы, а ранее в главе Ли цзи); 2) запись слов коленопреклоненным писцом; 3) связывание или привязывание слов. Последний кажется наиболее вероятным, тем более что в Шо вэнь цзе цзы иероглиф цзи3 определен как «истолкование» (шу2), т.е. текст, привязанный к другому.
В традиционной китайской культуре, которая глубоко исторична и вся в целом представляется воплощенной памятью, самостоятельное понятие памяти как индивидуальной психологической способности, дающей возможность хранить и воспроизводить в уме впечатления прошлого опыта, тем не менее отсутствовало. Его субститутом выступало понятие, выражаемое иероглифом цзи3, поскольку обозначаемые им записи всегда высоко ценились и трактовались как летописи, хроники, анналы, исторические свидетельства, благодаря чему знак цзи3 приобрел более широкий смысл – «зафиксированное», «учтенное», «памятное», «мемориальное», а также стал терминологическим обозначением литературного жанра, в котором написана первая, ставшая образцовой и самой знаменитой, история Китая — Ши цзи («Исторические записки» или «Записки историка-астролога») Сыма Цяня (2–1 вв. до н.э.).
Этот процесс смыслообразования прямо противоположен тому, который имел место на Западе, а именно превращению memoгiа как памяти в memoria как мемориальную запись, хронику, летопись; «памяти» – в «память» как книжечку для записей (также – «памятка»), деловое отношение, предписание (ср. франц. souveniг, происходящее от лат. subvenire – «приходить на помощь», – 1) воспоминание, память, 2) сувенир, напоминание, 3) запись, дощечка для записи.) Аналогичная эволюция от «памяти» к «записи» наблюдается в семантике индийского термина smriti. Оппозиция «запомненное – записанное» связана с оппозицией «индивидуальное – социальное (надындивидуальное)», ибо если письменность есть наиболее эффективная разновидность социальной (надындивидуальной) памяти, то память – это сугубо индивидуальная форма «записи». Согласно Ю.М.Лотману, «как только человеку потребовалось искусственно создавать помнящее устройство, перед ним встал знакомый ему образ хранилища (библиотеки, книги – любого типа надындивидуальной памяти, возникшей в эпоху графики) – ячеек, заполненных текстами. Книга – старая и исключительно примитивная машина памяти – стала моделью для новой памяти машин».
Даже Платон, резко противопоставивший письмо памяти и утверждавший, что использование письмен «вселяет в души забывчивость» («Федр», 275 а-в и далее), все же представлял память по аналогии с письмом, о чем свидетельствует его сравнение души с книгой, а памяти с записью в ней («Филеб», 38 е – 39 а) и известная модель «восковой дощечки» – дара Мнемосины («Теэтет», 191 с-d и далее). В проведении данной аналогии Платон следовал традиционным взглядам. Их, например, выражает Прометей в трагедии Эсхила Прометей Прикованный (Эписодий 2: 493–495):
«Я для людей измыслил и сложенье букв,
Мать всех искусств, основу всякой памяти».
Перевод С.К.Апта
С образом души как восковой дощечки связанна прошедшая сквозь века контроверза. Эта модель создателя теории врожденных идей (впрочем, различавшего память и воспоминание: «Филеб», 34 в-с) стала важным аргументом в руках противников данной теории: такова «управляющая часть души, подобная листу папируса, готовому воспринять надписи», у стоиков (Псевдо-Плутарх. Изречения философов, IV, 11, перевод А.Ч.Козаржевского), такова и знаменитая tabula rasa Альберта Великого (О душе, III, 2,17) и Локка (Опыт о человеческом разуме, II, 1,2), и менее известная tabula abrasa Ф.Бэкона (Великое Восстановление Наук, Роспись сочинения).
Платоновское противопоставление памяти и письма было невозможным для китайских философов, поскольку письмо для них являлось непосредственной действительностью памяти. Весьма показателен, например, контекст из Шу цзина («Канона писаний», см. ШИ САНЬ ЦЗИН), привлеченный толково-энциклопедическим словарем Цы хай («Море слов») для объяснения того значения иероглифа цзи3, благодаря которому он переводится на русский язык словами «помнить», «запоминать» и т.п.. В главе 5 Шу цзина говорится: «Нацелиться – чтобы выявить (мин2) это. Наказать – чтобы цзи3 это. Делать записи – чтобы знать (или: делать записи – в анналы)». Здесь, во-первых, запоминание не мыслится отдельно от письменной фиксации. Во-вторых, наиболее точный русский эквивалент знака цзи3 – выражение «знать впредь», поскольку передаваемый им в этом контексте смысл – «внушить, чтобы неповадно было».
Предельно ясным значение цзи3 делает следующее рассуждение из главы 31 Мо-цзы (см. МОИЗМ): в древности совершенномудрые государи опасались, что бамбуковые дощечки с их записями сгниют и исчезнут, в результате чего «дети и внуки последующих поколений не смогут знать [записанного] впредь (цзи3), и посему вырезали это на блюдах и чашах, выгравировали на металле и камне, дабы имело быть повторение этого». Очевидно, что иероглиф цзи3 здесь означает не индивидуальную психическую способность восстановления прошлого, а социальную деятельность по формированию будущего, основанную на письменной фиксации «память впредь». Исходной функцией письменности в Китае было обслуживание гадательной практики («знаки на [черепашьих] панцирях и костях [животных]» — цзя гу вэнь, вторая половина II тысячелетия до н.э.), всецело направленной на предсказание, или, по определению мантического и философского канона (цзин) Чжоу и («Чжоуские перемены»), «знание грядущего» (чжи лай) (Си цы чжуань, I, 10, Шо гуа чжуань, 3). В уже развитой письменной культуре нацеленность цзи3 в будущее выражалась в том, что Сыма Цянь в заключительном резюмирующем разделе Ши цзи (цз. 130) сформулировал задачу своего труда как «описание минувших дел с заботой о грядущем», а наиболее нормативный канон китайской классики, предназначенный формировать правильное поведение все новых и новых поколений, получил название Ли цзи («Записки о благопристойности»). С определенной точки зрения «знать впредь», или «знать вперед», – противоположно тому, что называется «помнить» в собственном смысле слова, так как помнить – это «знать назад». Но зато функция «чтобы знать впредь» является основной для писания.
Именно здесь заключено объяснение того на первый взгляд странного факта, что противопоставленная у Ван Янмина (1472–1529) в Чуань си лу («Записи преподанного и воспринятого», цз. 3) «предвидению» как «предшествующему знанию» (цянь чжи) «память» как «последующее знание» (хоу чжи) означает «знание вперед»; хотя буквальное значение определяющего это знание иероглифа хоу – «сзади, после», во времени» хотя буквальное значение определяющего это знание иероглифа – «затем»). На соответствующих значениях антонимичной пары цянь – хоу («прежде» – «после») основана и возможность прямо противоположного рассмотренному осмысления сочетаний цянь чжи и хоу чжи. Например, у Ван Чуна (1 в.) в гл. 78 Лунь хэн первое из них означает «знание прежнего», т.е. прошлого, а второе – «знание последующего», т.е. будущего.
Еще один иероглиф, близкий к понятию «память», – бэй1, «знание наизусть, на память», также имеет основное пространственное значение «зад, тыл, повернуться спиной». Своей семантикой он непосредственно обязан школьной процедуре ответа, выученного наизусть, при которой отвечающий стоял спиной к учителю, книге или доске, однако подобная образная ассоциация вызвана, видимо, более общей причиной – общемировоззренческим пониманием памяти как фиксации знания для передачи «назад», т.е. в будущее.
Эта специфическая особенность понятия памяти в китайской культуре – как знания, обращенного в будущее, а не в прошлое, как «памяти для», а не «памяти о» неразрывно связана с ее истолкованием в качестве явления прежде всего социального, т.е. наказа грядущим поколениям. Оппозиция «памяти для» и «памяти о» аналогична противопоставлению А.Бергсоном памяти-привычки (заучивания, или приспособительного действия) и памяти-представления (истинной, интуитивной памяти). Практически же, поскольку однокоренные со словом «память» русские слова охватывают столь широкий понятийный спектр, что в него попадает даже «забвение» как значение глагола «запамятовать», в этом наборе нетрудно найти эквиваленты и для китайских терминов, например – «напоминание» или «запоминание».
То, что иероглиф цзи3 означает «сознательно фиксировать(ся на...)», а не «хранить и воспроизводить в сознании», подтверждается его антонимом – ван1, разъясняя который в данном качестве, словарь Цы хай ссылается на два контекста – в Чжоу и и Ле-цзы. В Чжоу и (гексаграмма № 58 – Дуй, Туань чжуань) сказано: «Когда удовольствие предрешено для народа, народ игнорирует (ван1) свои занятия. Когда удовольствие сопряжено с риском, народ игнорирует (ван1) смерть». В Ле-цзы (гл. 3) содержится притча о человеке, «заболевшем отрешенностью (ван1)». Здесь иероглиф ван1 означает именно «отрешенность, бессознательность», поскольку больной, «находясь на дороге, не осознавал (ван1), что идет», а после выздоровления прямо определял свое прежнее состояние как «бессознательное» (бу цзюэ).
Показательны также контексты из Лунь юя (XII, 21), где «забыть себя и своих родных» значит именно «забыться» (нарушить благопристойность), «пренебречь», из Мэн-цзы (II А, 2), где иероглиф ван1 в смысле «устраняться» противопоставлен чжу1 – «помогать», а также из Чжуан-цзы (гл. 5, 19, 24), где он входит в оппозиции: «ван1 – чан» – «игнорируемое – акцентируемое», «ван1 – ну» – «бесстрастность (апатия) – гневливость», ван1 – гоу – «невмешательство – цепляние», и знаменует собою особый метод «сердечного поста» (синь чжай), делающего сознание «пустым-вместительным» (сюй) (гл. 4). Построенной на этом технике «сидячего забвения» (цзо ван) (гл. 6), напоминающей буддийскую «сидячую медитацию» (цзо чань), посвящен специальный трактат даоса 7 в. Сыма Чэнчжэня Цзо ван лунь («Суждения о сидячем забвении»), повлиявший на даосскую «внутреннюю алхимию» (нэй дань) и концепцию «главенства покоя» (чжу цзин) основоположника неоконфуцианства Чжоу Дуньи (1017–1079).
Приведенные примеры позволяют выделить у иероглифа «ван1» два значения: 1) игнорирование, пренебрежение, 2) отрешенность, бессознательность. Ни одно из этих значений не выражает идеи утраты способности к хранению и воспроизведению прошлых впечатлений (образов, мыслей и т.д.), характеризуя только настоящее отношение субъекта к объекту. С одной стороны, бессознательность равнозначна утрате не отдельной функции сознания – памяти, а всех сразу, т.е. «потере сердца» (это показано самой формой иероглифа ван1, состоящего из элементов ван2 – «потеря, гибель» и синь – «сердце»); с другой стороны, игнорирование и пренебрежение не исключают, а скорее даже предполагают память о предмете пренебрежения. В то же время антонимичным иероглифу ван1 вполне закономерно стал иероглиф, означающий сознательную фиксацию (фиксацию сознания) и акцентирование (в еще большей мере, чем к цзи3, это относится к бэй1). Напротив, для европейского понятия памяти признак сознательной фиксированности не обязателен, припоминание может мыслиться как безотчетный, бессознательный акт (непроизвольная память).
Е.В.Завадская в результате анализа терминов цзи3 и ван1, трактуемых как «память» и «забвение», сформулировала вывод об акцентации первой в конфуцианской, а второго – в даосско-буддийской философии.
Ван Янмин, осуществивший итоговый для традиционной китайской культуры синтез конфуцианства с даосизмом и буддизмом, перенес акцент на «благосмыслие» (лян чжи), которое постигает тончайшие признаки настоящего без обращения к прошлому и будущему, т.е. помимо «памяти» и «предвидения», и выступил с утверждением, что «запоминание» (цзи3) уступает «пониманию» (сяо), а то, в свою очередь, – деятельному «выявлению» (мин2) собственной первосущности (бэнь ти)» (Чуань си лу, цз. 3).
Васильев В.К. «Планы Сражающихся царств» (исследования и переводы). М., 1968
Завадская Е.В. Воспоминание как философско-эстетическая категория. – В кн.: Китай: государство и общество. М., 1977
Кобзев А.И. Ван Янмин и китайская классическая философия. М., 1983